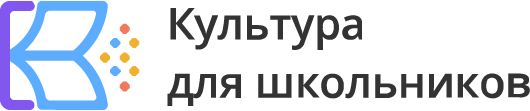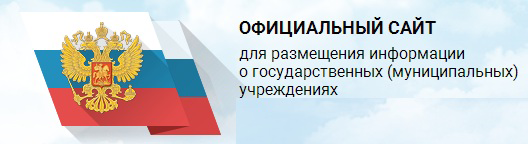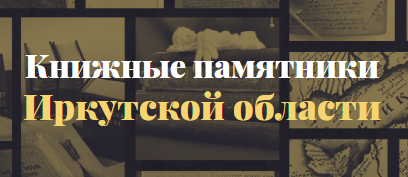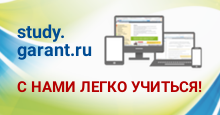Главная > О библиотеке > Наши проекты > ПИСАТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИТАТАХ
Писатели Иркутской области в цитатах
Друзья! Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского предлагает свой новый онлайн-проект «Произведения писателей Иркутской области в цитатах». Мы регулярно будем публиковать для вас цитаты из книг писателей, которые успешно представляют творческий потенциал любимого Иркутска в России и за рубежом. Надеемся, вас заинтересуют их книги! Приятного чтения!
Жил-был камень. Ничем особенным он от своих собратьев-камней не отличался: такой же, как они, серый, гладкий... Словом, обыкновенный булыжник. Лежал он близ дороги у подножья холма, и так же, как и другие камни, грелся на солнышке летом, прятался под снегом от холодных ветров зимой. Жизнью своей камень был доволен: знай себе лежи да болтай с товарищами-булыжниками. Ни забот тебе, ни хлопот. Красота!
Проходил как-то мимо холма человек. Видно было, что не один час прошагал он по дороге: сапоги его сильно запылились, походка была медленной и усталой.
Поравнявшись с камнем, путник вдруг остановился и сказал:
- Присяду-ка на камушек, отдохну.
И направился прямо к нашему камню.
- Вот еще чего! - закричал камень. - Этого мне только не хватало!
Но человек не услышал его возгласов, ведь люди вообще не могут слышать, как говорят камни. Видя, что путник действительно хочет сесть на него, камень даже пробовал откатиться, но у него, конечно же, ничего из этого не вышло.
Камню нисколько не было тяжело, когда человек сидел на нем, но он все равно продолжал кричать:
- Слезь сейчас же! Не для того я тут лежу, чтобы на меня
садился всяк кому не лень!
Путник, посидев несколько минут, поднялся и вдруг сказал: - Какой хороший камень! Теплый, гладкий...
Он наклонился и даже погладил камень шершавой ладонью. И камень вдруг перестал сердиться. Ему даже стыдно стало, что он не хотел, чтобы на нем сидели.
До самой темноты, пока не заснул, камень вспоминал слова человека: «Хороший ... теплый ... гладкий ...», Ему вдруг так захотелось услышать эти добрые слова еще раз!
Утром, едва рассвело, камень принялся глядеть на дорогу: не идет ли кто? Он вовсю старался, чтобы солнечные лучи нагрели его сильнее, чем обычно. Поэтому времени на разговоры с другими камнями у него не оставалось. Они, как всегда, болтали, а он лежал молча и копил тепло. Но путники на дороге не по¬являлись. Только машины, проезжая, обдавали камень пылью.
Люди, сидевшие в них, не знали, что проезжают мимо камня, который очень хочет оказать кому-нибудь услугу, быть полезным.
Всякий раз, когда машина проезжала мимо, камень напрягал все свои силы, чтобы стряхнуть с себя пыль, поднятую колесами. Даже не знаю как, но у него это получалось, и он был чище, чем его товарищи...
Не один день прошел, пока камень наконец-то дождался путников. Ими оказались ребята из пионерского лагеря, отправившиеся в поход. Они подошли к холму и решили сделать привал, расселись на камнях. Что тут началось!
- Слезь с меня!.. Ой, как тяжело!.. Уйди! - закричали камни наперебой. И только наш камень молча радовался тому, что помогает ребятам отдыхать. А когда кто-то из ребят заметил, что он теплее и чище, чем другие камни, радости нашего камня не было конца. Ведь его опять похвалили!
Но пионеры вскоре ушли, и нашему камню ничего не оставалось делать, как ждать новых гостей. За лето путники еще несколько раз отдыхали на нем. И даже если камень и не слышал от некоторых из них добрых слов, он все равно был доволен, что оказывался нужен.
Но вот наступила осень, и все реже стали появляться у холма люди. Камень загрустил: приближалась зима, а кто же будет сидеть зимой на камне вдали от села? Ему предстояло всю зиму лежать без дела.
Но вот однажды на дороге появилась телега, запряженная рыжей лошадью. В телеге сидели старик и старуха. Камень уже знал, что они не остановятся, чтобы посидеть на нем, и взгрустнул. Но, поравнявшись с камнем, телега вдруг остановилась.
- Дед! - раздался голос старухи. - Возьми-ка вон тот камень.
Старушка показала рукой прямо на наш камень и добавила: - Будем им капусту в бочке придавливать.
«Придавливать капусту? - подумал камень и на минуту огорчился. - Но ведь на мне же можно сидеть». Но тут он подумал еще и решил, что придавливать в бочке капусту, пожалуй, луч¬ше, чем иногда заменять людям стул. Ведь тогда он будет нужен людям каждую минуту...
Приехав домой, старик занес камень в кладовку и положил его на деревянную крышку, лежащую на бочке с соленой ка¬пустой. Камень был счастлив: о чем еще может мечтать камень, желающий помогать людям?
Шилов Сергей Владимирович. Прощаю...
Сегодня, именно в это утро я наблюдаю в себе новое ощущение бытия. Вообще процесс наблюдения за собой само по себе любопытное и полезное занятие как для психики, так и для физического самочувствия. Необходимо каждый день созерцать своё душевное состояние почти так же, как чистить зубы или находиться у зеркала, как делают дамы, подкрашивая ресницы, подправляя и выщипывая брови, превращая их в тонкую красивую линию.
Наблюдать за собою очень и очень интересное занятие. Никогда не знаешь, что можно обнаружить в себе, и порой удивляешься новому, спрашивая себя: «Откуда всё это во мне?». Ведь жил и не замечал за собой подобного и вот увидел, прозрел ...
Вот и в этот раз смотрел я на себя как бы со стороны, без критики, без эмоций, спокойным оценивающим взглядом риэлтора, пришедшего осматривать для продажи чужую квартиру ... Осмотрел и обнаружил, что я похож на маленького пушистого суслика, мелкого полевого грызуна ... Суслик вылез из норки в ЭТО утро, чтобы погреться в лучах весеннего солнышка... Солнышко пригрело пригорок и маленькую норку, и суслик вылез подышать на свежий воздух, встал столбиком, чтобы бодро оглядеть свои окрестности ... Вокруг тихо, торжественно и замечательно ... Нет ни тревоги, ни печали, ни грусти. Есть его величество время, есть пространство, есть норка в земле и есть своя философия, философия суслика. Норка прячет его от врагов, даёт кров и ночлег, и в ней, где-то на глубине, таятся запасы с едой. Запасливый, в общем, суслик ...
Но что удивительно, ведь прекрасно сознаю, что норка на пригорке – это символ бедности, даже, можно сказать, нищеты, убогости, а всё равно на душе порядок, уют и спокойствие. Сознаю это и радуюсь утреннему солнцу, жизни, синему небу над головой, облакам ... Сознаю, что кто-то живёт во дворцах, ходит босиком по пушистым коврам, сидит на мягких диванах и плавает в бассейнах ...
А я вот нахожусь где-то на пригорке и стою столбиком, стою и думаю ... Сознаёшь это и нисколько не завидуешь другим... И норка иногда похожа на дворец, здесь тепло, уютно и сухо ... Не всё ли равно, где испытывать на прочность свою судьбу? Или в норке, или во дворце?.. Истина, наверное, не в этом. Ведь всем одинаково равномерно светит всемогущее доброе солнце на небе. Солнцу нет особой разницы, кому и как светить, в какие окна заглядывать и какие норки освещать... Скорее всего, солнцу «до лампочки» все эти дворцы, все вместе взятые, и эти норки на пригорке ...
И если я суслик, пушистый неунывающий зверёк, то это даже совсем не плохо! И необязательно быть хомячком, или леопардом, или слоном. Главное, быть самим собой. Главное, полнее ощущать себя в этом мире, чувствовать момент времени, момент пространства и бытия в нём. И не важно, где ты находишься и в ком!? В какой шкурке, в какой норке или во дворце?.. Важно, что внутри у тебя на данный момент времени!.. Важно, как ты воспринимаешь этот мир вокруг, с претензиями или без, с обидой или с восторгом!..
Важно, как ты умеешь радоваться солнечным лучам поутру, как умеешь любить себя и других, рядом живущих, таких же как ты!.. Важно быть человеком... Важно быть человеком, большого или маленького роста, со слона, леопарда, хомяка или суслика, который утром выглядывает из окон дворца-норки, радуясь солнышку ...
– И чего ты, Вася, маешься, – отозвалась из боковой комнатушки прилегшая отдохнуть жена, – и ходишь... И ходишь... Выходной ведь сегодня. Прилег бы. Годы-то не молодые весь день топтаться, – она тяжело вздохнула.
– Належимся еще, – глухо отозвался Василий Иванович и, натянув на плечи телогрейку, вышек во двор. Попробовал и здесь заняться делом. Расколол две чурки дров. Помахал по двору метлой. Заколотил в отставшую от огородного заплота доску два гвоздя. Но не получалось, как обычно, ловко и сноровисто. После того, как, целясь в гвоздь, промахнулся и ударил молотком по пальцу, бросил все. Вышел на улицу.
Осеннее солнце будто зависло за рекой. Оно светило ярко, но не грело, вроде бы его тепло отдувало куда-то в сторону, и оно не доходило до поселка. Вялыми и тусклыми серебристыми бликами мерцала река. В палисаднике тоскливо шелестели несколько листочков, почему-то не слетевших с молодой черемухи. Было тихо, спокойно.
Но Василий Иванович не поверил этой тишине и покою, ему показалось, что за ними что-то скрывается, для него пока непонятное. Откуда-то исподволь подкрадывалось, захлестывая душу, беспокойство...
Неожиданно в эту подозрительную солнечную тишину, в серебристо-ленивое мерцание реки, в тоскливый шелест сухих листьев врезался и накрыл все собой громкий человеческий крик. В нем не было ни боли, ни страдания, ни отчаяния. И в то же время в нем не было и радости, веселья или чего-то похожего на них. Этот крик человека показался Василию Ивановичу злым и нетерпеливым.
Василий Иванович, тревожась, огляделся вокруг и остановил свой взгляд на доме Михаила – ухоженном, добротном и богатом. Но сейчас вид его показался зловещим. Добротность лоснилась сытостью. Ухоженность – щегольством. Богатство – высокомерием. Василий Иванович уловил то главное, чего не хватало ему, этому красивому дому, – простоты, естественности и, как это ни странно, – тихой, застенчивой, умной культуры.
Крик прорывался из этого дома. Трудно даже было понять, где он находил щели. Но находил, лез, как бы пуча и приподнимая собой стены и крышу.Потом все смолкло и стало таким, каким было всегда. Из подворотни Михайлова дома вылезла лохматая собачонка, трусливо оглянулась и, поджав хвост, побежала, мелко перебирая лапками, к окраине поселка.
Виктор Петрович Соколов. Зимние жаворонки
Снова стал жить в Иркутске и долго никуда не выезжал.
Город, его таёжные окрестности, Чинновидово, Ангара и Байкал по-настоящему притягивали Льва, особенно после квёлости лесотундры, технологически и прагматически до последнего гвоздика устроенных северных рабочих посёлков. Может, и вернулся к тому, что роднее, родственнее и нужнее сейчас. В припылённых, скособоченных, прошлого века домах Иркутска, в его облике, который изрезан морщинами заулков и улочек, в его живых или разваленных церквях, в его зеленовато-бирюзовом ожерелье - Ангаре, в его новостройках и воссозданных купеческих усадьбах, - во всём этом по преимуществу старом, неухоженном, но тянущемся к нови и красоте городе он так же, как раньше, и как всегда, находил успокоение. Иркутск ему виделся живым, естественным, природным: одно в нём отмирает - другое начинает жизнь, одно прекрасно - другое уродливо, одно пора снести, спрятать с глаз - другое восстановить и лелеять, потому что оно прекрасно, потому что оно нужно людям, только, видимо, не все это понимают пока.
Любил иркутян и всегда угадывал точно, что перед ним именно иркутянин…»
Александр Сергеевич Донских. Родовая земля
Встанешь перед теперешней Ангарой и понять не можешь: то ли вниз, как положено, опускается течь, то ли поднимается вверх. Моя первая работа еще молодого автора о новой, доставшейся нам от выстроенной Братской ГЭС Ангаре так и называется: «Вниз и вверх по течению». Но во второй работе, в «Прощании С Матерой», уже сомнений не осталось: прощай, Ангара! Более полувека миновало с той поры, как от Иркутска до Братска запрудили ее, и из этого полувека только последние пятнадцать-двадцать лет река, уже и забывшая, что она река, с великим трудом пробует очищаться от брошенных, где стояли, и затопленных лесов. Мои аталанские земляки, которые до перестройки обходились без моторных лодок, могли потом хвалиться друг перед другом, будто они наизусть знают, где еще лесины лежат под водой и где они, не всплывая наверх, караулят нашего брата. И караулят удачно. В каждой из немногих оставшихся деревенек этому свой немалый счет. Но и история справилась с этим злом по-своему: после перестройки в ангарских неказистых деревеньках моторных лодок осталось раз-два и обчелся.
Не стану делать вид, будто с самого начала, как загрохотали по Ангаре и Енисею великие стройки коммунизма, я сомневался в их горячечной необходимости. Нисколько не сомневался. И в Иркутске, а затем и в Красноярске я работал в молодежных газетах и отдал, что называется, дань их прославлению. Это было время дотоле не виданного воодушевления: на наши сибирские стройки рвались целыми классами только закончившие школу и целыми отрядами только что отслужившие армию.
И, как мой герой в повести «Прощание с Матерой», внук старухи Дарьи, которого Дарья с недоумением спрашивает, чего ради он вместе с тысячами и тысячами других рвется в Братск и зачем потребовалось затоплять Матеру, - мог бы и я внушать безграмотной деревенской старухе: на электричество пойдет наша Матера, на электричество, тоже будет пользу людям приносить. И мог бы услышать от своей бабушки слова Дарьи: «А то она во вред тут, христовенькая, стояла».
Так и просится повторить их, эти слова, для всех ангарских гидростанций, запущенных и еще приготовляющихся к запуску: «А то она во вред тут, христовенькая, стояла неведомые тысячи лет».
Да и рыба теперь - одно только название, что рыба: не выжили в бестечьи ни хариус, ни ленок, о таймене вспоминают только старики. На Ангаре - и без рыбы. Побывав в последний раз в своей Аталанке, я встретил небывалое - бывшие мои земляки, зная, что больше всего здесь ценится, везут в подарок ее, рыбу, в том числе тоже с Ангары, но с северной, еще не затопленной, только что приготовляемой к затоплению, которую ждет то же самое, что и здесь. Пройдет еще несколько лет - и зачахнет рыбная Ангара от Усть-Илимска до Богучан. А затем и далее. Ни китайцам, ни европейцам, которые пользуются и станут пользоваться дешевым ангарским электричеством, до этого нет, конечно, никакого дела, да ведь получается, что до этого нет никакого дела и нам тоже…
Валентин Григорьевич Распутин. По Ангаре…
Вспыхнул свет. Она стояла в дверях, прислонившись к косяку, в бумазейном халатике, в шлепанцах с помпонами - бледная, похудевшая, с чертами лица определившимися и затвердевшими, с выражением подчеркнутого, непоколебимого равнодушия ко всему. Наверное, спала или телевизор смотрела и, выйдя на стук, еще не пришла в себя. Поначалу она не узнала вошедшего, глянула холодно, безразлично: кто, мол, такой и что надо? Но вдруг в ее глазах, серых мягких глазах, которые одни на всем лице оставались такими же, как прежде, когда она была девочкой-недотрогой, невестой, женой, матерью и хозяйкой, и которые он всегда прежде любил в ней, - мелькнула искра пробуждения, испуга, недоумения, может быть, неосознанной радости или торжества, и руки ее медленно поднялись к горлу и подперли щеки, чтобы, казалось, поддержать разом отяжелевшую голову.
- Мать-то дома? - хрипловато спросил Витек. И нерешительно, несмело добавил: - Здравствуй.
Она не ответила, но теперь, услышав его голос, вроде все поняла. Поняла, что это он и что пришел. Руки ее метнулись к затылку, бегло коснулись в тугой узел скрученной косы, стянули полы халата на груди, подвернули спустившийся ниже локтя рукав, сощипнули какую-то нитку…
- Проходи, - сказала она чуть насмешливо и зажгла свет в горнице. - Ужинать будешь?
Он хотел объяснить, что приехал не нарочно, а возвращался из леспромхоза и застрял, так куда же деваться на ночь, как не к матери. И почему-то казалось очень важным объяснить это, чтобы она не подумала чего лишнего, ненужного, чтобы не тревожить ее понапрасну и не бередить рану, коли еще есть рана, и вообще чтобы все было ясно. Витек любил, чтобы все было ясно. Но язык не поворачивался объяснять. Все выглядело просто и обыкновенно, будто он за так себе вернулся из рейса и сейчас она подаст ужин, будто и не было ничего, ни этих двух лет, ни обид, ни разлуки, так чего же еще объяснять-то?
Она включила плитку, поставила на нее чайник с печи, видно, еще теплый, открыла крышку одной кастрюли, другой, заглядывая в них критически и с сомнением, что там есть и чем угостить гостя, потому что был он как-никак гость. Витек, все еще думая свое и опасаясь, не пошел в горницу, сел на кухне у стола, возле окна, где всегда сидел с тех пор, как умер отец, и уже спокойно и рассудительно глянул на бывшую свою жену.
Дарья была все еще хороша. То есть, ничего в ней не было такого уж привлекательного, такого, чтобы ах, но эта-то будничность ее, домашность и уютность, которые он всегда ценил и сейчас еще помнил нутром, по-прежнему и ненавязчиво привлекали. Была она невысока и полновата, но полнотой не рыхлой, а мягкой, женственной, и движенья ее были плавные, экономные и уверенные, и руки, не по-деревенски маленькие, выглядели свежими, девичьими, и грудь не терялась под халатом, и походка пружинила, и голова стояла на полной шее высоко, независимо, а приподнятый подбородок и чуть вздернутый нос еще придавали ей гордости, самостоятельности. В глаза уж он не смотрел, знал, глаза остались прежние, совсем прежние, хотя лицо, пожалуй, поблекло, и две резкие морщины вылепились у рта.
Борис Лапин. Своя жена
Пересилив мимолетный, знобящий страх, хозяин опять сунулся взглядом в подполье и лишь потом признал в этом диве, в этом домовушечке, лохматого щенка.
Картошка, с полмесяца назад ссыпанная в подполье, толком не просохла, и щенок, настырно ползущий на ее вершину, оскальзывался, сползал вниз, потом снова, обиженно скуля, полз по сырой и студеной картохе вверх, к избяному теплу. Когда в холодную темень подполья хлынул слепящий свет, когда повеяло сытым, жилым духом и послышались людские голоса, бедный щенок стал отчаянно скрестись вверх и пищал теперь без передыху, закатываясь в плаче, словно брошенный матерью ребенок. Хозяин тут же выудил пискуна из подполья, усадил на пол, где щенок сразу же пустил из-под себя парящую лужицу.
Тут из горницы прилетела Оксана, подивилась, схватила щенка с пола, и такое у них пошло целованье-милованье, словно кровные брат и сестра обнялись после долгой разлуки. Явилась на шум и заспанная Ирина, глядя умиленно на щенка с дочерью, приобняв мужа, вдруг грустно вздохнула:
- Скучает ... - и весело прибавила:
- Надо ей сестрицу покупать.
- А, может, лучше братца купим? Подмога по хозяйству. Да и наследник. Девки - чужой товар.
- Ой, мама, папа! - услышала дочь про будущие покупки.
- Купите мне сестричку!
- Сестричку-лисичку?.. - отозвался Иван и с грустью прикинул, что дети им сейчас не ко времени, потому что надумали кочевать в Иркутск, где их никто не ждёт с распро¬стёртыми объятьями, с хлебом-солью, и неведомо ещё, в каком углу приютятся.
- Легко сказать, купите ... Дороговато стоит, доченька. А у нас денег кот наплакал.
- Ага, вон диван купили, шкаф купили, а на сестрёнку денег нету. У дяди Паши Сёмкина займите, - помянула дочь соседа, семья которого вечно перебивалась с хлеба на квас.
- У него полно денег, уже трёх девочек купил, теперь мальчика поехал брать.
- Ладно, доча, купим тебе братика либо сестрицу, - посулилась мать.
- Что уж в продаже будет, - рассудил Иван. - Да и по деньгам нашим ...
- Вон, папина мама, баба Ксюша, с дедой Петей бедно жили, а восьмерых купили.
- Тогда ребятишки дешево стоили.
- Купим, доча, купим, - заверила мать, игриво глянув на Ивана.
- Ура-а-а! - завопила дочь и так стиснула щенка, что тот жалобно пискнул».
Анатолий Байбородин. Домовушечко
Особенно ярко представала мама в его памяти, если бабушка куда-нибудь отлучалась – забиралась ли она перепроверять соленья в подвальной яме, уходила ль к соседке по молоко или ковыряла в вёдра на оттаявшем клочке огорода чёрную землю под посад. И он на час-другой оставался одинёшенек в оставленной избе, в осиротевшей ограде, в пустынном и безжалостном к нему огромном мире. Бывало, что и плакал, забравшись за шифоньер, или подолгу гляделся сквозь сложенные на мокром лице пальцы в тусклое зеркало, однообразно отражающее спинку стула, окно и зелёные часы, тень их цепочки со свинцовой шишкой на белёной стене. Зеркало тоже, как и он мамой, было брошено солнышком. И пуще рыдалось мальчику о том, что мамы больше нет для него здесь и сейчас, а есть где-то там, за горой, за синей рекой. Да не ему навстречу разворачиваются мягкие и добрые её ладони, в которых он помнил каждую жилку, протёкшую сладкой струйкой молока, не над его русой нечёсаной маковкой тихим месяцем горят её влажные губы ...
Работы на подворье прибавлялось, Клавдия Еремеевна с ног сбилась, со смертью дедушки исполняя и мужицкую работу. Коль часто её не было рядом, мальчик выучился разговаривать с книжкой, с часами, с кастрюлями, с горшком на окне ... Однажды он невзначай выдумал, что и мама с ним, с утра до ночи, с ночи до утра следит за своим брошенным сынишкой. Уж эта-то мама была только его, только для него жила-была, и украсть её не смогла бы ни одна живая иль мёртвая душа – даже бабушка, на ночь закрывавшая посохом ставни! Взглянет ли мальчик спросонья в окно – мама лучится в щёлку меж ставней рассветным солнышком; выбежит ли на двор в натёрших под коленками валенках – мама в палисаде белой берёзой, машет ему серебряным рукавом; засмотрится ли, ложась спать, в вечернее небо – мама мерцает сверху звездой, которая больше и ярче других, ближе всех к земле, к их с бабушкой избе, к окну, из которого днём ли, вечером ли, гремела ли старуха чугунками в кухне или уже спала в спаленке, явственно слышалось: «Горюшко ты моё луковое! – говорила мама, смеясь небесной синевой или плача чёрными, щемяще шумящими крышами. – Чего удумал, будто я поменяю его на кого-то другого! Да на сто тысяч лучших не отдам ни за что!
Андрей Александрович Антипин. Капли марта
19 ноября 1942 началось контрнаступление советских войск под Сталинградом, закончившееся окружением армии Паулюса. В ночь на 28 ноября экипаж Парахина вылетел на уничтожение вражеской группы в район Россошки.
На подходе к цели Ефим услышал в наушниках взволнованный голос:
– Командир, «мессеры» сзади! – прокричал стрелок-радист Губачиев, открывая яростный огонь по атакующим бомбардировщик истребителям.
Не обращая внимания на нападение «мессеров», Парахин продолжал атаку, уже видя перемещающиеся под фюзеляжем артиллерийские батареи противника, гусеничные тягачи и группы миномётчиков. Над скоплением вражеских подразделений штурман Соломонов сбросил бомбы, физически уничтожив цель, после чего самолёт с рёвом взмыл в задымленное небо и, стремительно набирая высоту, помчался к горизонту, спасаясь от зенитного огня. Но на самом выходе из зоны прямое попадание зенитного снаряда потрясло машину, воспламенив фюзеляж. Пожар в кабине обжёг лицо и руки, на экипаже вспыхнула одежда, а едкий дым перехватил дыхание... Парахин нервно отклонял педали и штурвал, но машина не слушалась, самостоятельно входя в хаотичный неуправляемый вираж:
– Экипажу покинуть машину! – приказал командир и проводил взглядом покидающих аварийный самолёт товарищей.
Он последним вывалился из горящей кабины на крыло переворачивающегося бомбардировщика … Мощный воздушный поток покатил его по скользкой плоскости: «Не зацепиться б ремнями за щелевой закрылок! – мелькнуло в голове. «Как выворотило элерон...» – успел заметить он и, сорвавшись с плоскости, проваливаясь в головокружительную пропасть, потерял пространственное положение, кувыркаясь в свободном падении.
Вращающееся тело стремительно мчалось к далёкой земле, в глазах мелькали проблески серого горизонта, а рука не сразу нащупала на груди кольцо и, схватив его, резко рванула. Над головой засвистели турбулентные вихри вытяжного, а через секунду послышался глухой хлопок раскрывшегося основного парашюта. Раскачивающееся маятником тело повисло на врезавшихся в мышцы ремнях, а медленное снижение под белоснежным куполом дало возможность оглядеться в поднебесье. Сквозь опалённые ресницы Ефим увидел свой беспорядочно падающий бомбардировщик. Шлейф чёрного дыма тянулся от горящего фюзеляжа к далёкой черте горизонта. А когда произошло столкновение с землёй, блеснул яркий взрыв. «Хорошая была машина, безотказная ...» – попрощался с самолётом командир, тщетно пытаясь разглядеть в небе парашюты экипажа…
Леонид Анатольевич Орлов. Мёртвая петля над Байкалом
Людмилою она так и не назвалась за жизнь. Под пятьдесят прет, а все кошачьим «Милка» кличут. Она всегда походила на кошку. В изгибе, в потягиваньи, в мурлыканьи. Ах ты, господи, в любви была как солнышко. Сквозь кости проникало медовое ее словцо. «Соболек, - скажет, - Соболе-о-ок». Этим «Соболек» она как веревочкой вела его, куда хотела. Еще в школе встанет под дверью, шепнет: «Соболек ...», И Гоха «линял» прямо с урока. Они рано скрутились. Он звал ее скороспелочкой. Хоть не набрала ни росту, ни бабьих особенностей, но из стайки своих сверстниц она выделялась сразу. Этой кошачьей грацией, пышными, пшеничными волосами, звончатостью, глазищами ... Куда все девалося ... Очарование, страсть, постоянная, как болезнь, деннонощная тяга к ней. Таскался за ее пятой, но стыдясь насмешек сверстников. Они уже хвастались победами, подробностями встреч, а он носил ей омуль с душком, который она ела ведрами, воровал у матери для нее деньги на сладости и девчоночьи глупости, которые умиляли его. Ждал ее часами возле клуба, следил издали ...
Так уж получилось, судьба выпала такая. Две веревочки рядышком лежали, а не свились ... Любила она первенствовать. Быть заводилой, в центре всех событий ... Чтобы все глядели на нее, все слушали. На всех смотрах, концертах, олимпиадах - всегда первая ... А он не любил скромных глаз, крика, суеты ... Любил быть с нею одной ... Вечерком подойдет к низкой изгороди Казаковского дома, встанет у осинового столбца и ждет. Первой выходила всегда Клавдея. Она уже считалась перестарком в селе. Долговязая, худосочная, она имела какой-то скудный, не убористый вид. Может, оттого, что родилась с пятном во всю щеку. Степанида, говорят, на сносях испугалась пожара и приложила ладонь к щеке. Так пятерня и отпечаталась на лице у Клавдеи. С годами она стала совсем незаметной, но это сейчас, когда Клавдея входила в цвет, потом отгорела и лик ее сравнялся. А в молодости глаза иные, и все не туда норовят глянуть. Не диво, что молодой Гоха не сводил глаз с Милки. Милка выскакивала, упругая как мячик:
- Заждался, Со-бо-лек!
Валентина Васильевна Сидоренко. Дело житейское
Последнее изменение: 1 октября 2015 18:25